Смеетесь, когда надо сердиться, вечно не можете расслабиться и отпустить себя? Возможно, это улыбающаяся депрессия — опасное состояние, при котором классическая депрессия прячется под маской «у меня все окей». Диагностировать ее (очень!) трудно, но если прислушаться к себе и своему телу — возможно. Как вычислить скрытую проблему и можно ли ее проработать (не антидепрессантами едиными!) — спросили у Александры Гриевой, телесного травматерапевта, автора книги «Контакт с телом» и телеграм-канала «Утром ЗОЖ, вечером кутеж».
Улыбающаяся, или высокофункциональная, депрессия (УД) — состояние, в котором человек выглядит оптимистично, но внутри разворачивается классическое депрессивное состояние
Ответ на вопрос, как такое возможно, многослоен, ведь в этом процессе участвует не один фактор. Если смотреть с позиции тела и нервной системы, то это гибридное, расщепленное состояние: внутри разворачивается коллапс (по научному — дорсальная стрессовая активация по Порджесу), который порождает отчаяние и бессилие, снаружи — фасад социальной игры (позитивная симпатическая активация). Это два противоположных полюса:
истощение и пассивность внутри + радость и активность снаружи
Очень интересный механизм, потому что в депрессии как таковой нет сил на такую игру.
Основная причина — о депрессии говорить по-прежнему стыдно
В нашем обществе до сих пор существует серьезная стигма ментальных расстройств (само слово «расстройство» очень сложно принять, я предпочитаю слово «адаптация» — то, что нам помогает справляться с вызовами жизни, даже если ради этого приходится отказаться от чего-то важного — ощущения жизни, например).
Депрессия чуть больше других адаптаций начала просачиваться в общее поле, некоторые работодатели начинают понимать, что депрессивный эпизод у сотрудника — не просто нежелание идти на работу. Но этого все равно пока очень мало. Плюс депрессия в общественном сознании — нечто очень размытое, миллениальская блажь и проблемы первого мира: «У всех депрессия, прабабки наши вообще в поле рожали и никаких проблем ни у кого не было, а ты просто ноешь».
В этом есть горькая правда — депрессия действительно есть почти у всех, она становится нормой выживания в большом городе, где отсутствует доступ ко многим способам регуляции, и тело быстро исчерпывает запасы адаптации в условиях перманентной нагрузки среды. Я не специалист в фарме, но не удивлюсь если однажды антидепрессанты перекочуют на полки с витаминами.
В нас глубоко сидит убеждение, что если что-то не проявлено внешне, то этого как будто не существует. «А, это у тебя психологическое» звучит так, будто человек может по своему желанию повлиять на ситуацию. Но как раз повлиять на тело, например, заживить перелом ноги, значительно проще (и намного дешевле), чем что-то наладить внутри своего ума и перепрошить глубокие паттерны.
Еще один социальный фактор — гипериндивидуалистичная культура успешного успеха
Мы отрезаны от питающих связей с другими (которые сами по себе могут быть мощным ресурсом при депрессии), и при этом вынуждены постоянно бежать вперед и показывать счастливую жизнь. Мы очень одиноки в этом цирке.
Социальные факторы не возникли сами по себе. Если в семье — нашей первой социальной среде — нет места нашему отчаянию, печали, унынию, надо всегда быть радостным и довольным, то куда все это девать? С эмоциями не работает подход «если я не буду на них смотреть, они исчезнут». Они появляются, чтобы рассказать о том, что с нами происходит, и чтобы быть выраженными вовне. А если мы не находим способа их выразить, они продолжают жить внутри и никогда не заканчиваются. Всем знакомы фразы «если я начну плакать, я никогда не остановлюсь», «если я начну выпускать свой гнев, я просто разрушу все». На самом деле, все эмоции довольно быстро заканчиваются. Обратный эффект имеют именно застрявшие внутри переживания, которым как будто нет места.
Вот и получается: в детстве окружение не выдерживает нашу печаль и отчаяние, и мы очень рано понимаем: чтобы нас заметили, чтобы от нас не отвернулись, надо быть позитивными. Начинается раскол на внутреннюю реальность и внешнюю поведенческую маску. Но эта маска сидит настолько глубоко, что уже срослась с нами.
Симптоматика у «депрессии с улыбкой» есть, но ее надо научиться замечать
Проблема в том, что сам человек может не рассматривать свое состояние как депрессию, потому что оно ушло в вытесненное поле. Метафорически: ты висишь над пропастью, и единственное, что тебя еще держит, — оптимистичный взгляд вверх, а тебя просят посмотреть вниз и признать, что там пропасть (невыносимо!). Поэтому человек с УД может на полном серьезе отрицать депрессию у себя: «Другим гораздо хуже», «У меня все нормально», «Я со всем справляюсь» и так далее. Это состояние, когда даже внутренний взор не видит, сколько там на самом деле отчаяния. Человек себе (и нам) не врет — он, правда, не видит.
На уровне физиологии УД будет давать не сбой конкретного параметра, который можно замерить анализами, а целый комплекс нарушений в коммуникации между системами:
- ГГН-осью (гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось, отвечающая за гормональную регуляцию стресса и информирование мозга о нашем реальном состоянии);
- вегетативной регуляцией (чередованием активности и покоя, стресса и его отсутствия);
- поведенческими реакциями.
Если человек придет на прием к психиатру, то здесь легко попасть в еще одну ловушку: явных признаков УД нет (и справочники не помогают)
Признаки могут проходить как субклиническая депрессия, которая не требует особых вмешательств. Просто отдохните. Просто старайтесь иногда расслабляться и замедляться. Но ничего из этого, как правило, не работает.
Также сам человек не будет выглядеть как человек в депрессии — он будет эмоционально включен, вежлив, опрятен, не станет отрицать стресс, но будет подавать его как «ничего особенного, все как у всех, устаю, но не критично». И здесь легко заметить, что отрицания стресса нет, зато есть отрицание его глубины. Это происходит из многолетнего нарушения контакта с телом, когда человек сам не осознает, насколько сильно он истощен.
Что интересно, при УД способность по-настоящему получать удовольствие тоже страдает
Наслаждение становится доступным, когда мы можем отпустить контроль и отдаться приятному переживанию. При внешне насыщенной жизни человека с УД этого не происходит, даже когда все вокруг способствует (приятное окружение, вкусная еда, возможности для отдыха etc.). Человек думает, что совсем ничего не чувствует.
Итого, пожалуй, главным признаком можно назвать ощущение неконгруэнтности
В ситуациях, которые предполагают гнев, человек будет улыбаться — даже понимая, что где-то этот гнев должен быть, он не будет его внутри чувствовать. В ситуациях, которые требуют спонтанности и веселья, он будет как будто бы чуть притормаживать: с одной стороны, это и есть его социальная маска, с другой — она рождается не естественным путем, через напряжение, а напряжение всегда мешает спонтанности.
Ум такого человека будет всегда настороже, даже если со стороны кажется, что он расслаблен и получает удовольствие. Он не показывает разную гамму чувств — все всегда просто «хорошо» и «нормально». И окружающие видят только такую сторону. «Живой» человек всегда на связи с разными своими эмоциями, они естественным образом сменяют друг друга. У личности с УД такого нет.
Активная «улыбчивая» динамика появляется, когда нет сил смотреть в свое отчаяние. Это часто служит поводом бесконечно бежать, не давать себе останавливаться. Обладатель УД может быть трудоголиком и перфекционистом — по сути, это тоже неконгруэнтность, так как для достаточно хорошего выполнения работы столько сверхусилий не требуется. В терапии такие клиенты могут годами рассказывать о том, как они и тут справились, и там справились, и тут смогли, и там — и при этом никогда не заходить на территорию собственной беспомощности.
Работать с улыбающейся депрессией лучше через тело
Повторим, что эмоциональный диапазон у человека с УД довольно плоский: все примерно всегда окей. Поэтому тело здесь выступает более надежным союзником — научившись замечать его состояния, можно постепенно начать наращивать обратно свой эмоциональный диапазон.
У каждой эмоции есть телесный паттерн. Когда мы грустим, то сворачиваемся внутрь и поникаем, когда радуемся — разворачиваемся, раскрываемся наружу. Меняется дыхание, взгляд, и это не подделать. Эмоции могут быть отщеплены от сознания, особенно когда у нас для них не было контейнера и возможности безопасно их проживать. Тело в этом случае — носитель всего вытесненного, что по разным причинам не дошло до сознания.
Первый шаг: начать с умения соотносить ощущения в теле с определенными эмоциями
Именно это помогло мне самой, как человеку с УД, начать улавливать собственную неконгруэнтность:
- Сердце внезапно начинает колотиться — «Хм, кажется, я злюсь?»
- Ощущаю как внутри груди как будто сползает вниз что-то склизкое — «Хм, кажется, мне страшно?»
Это было единственной зацепкой, потому что из ума чувства были полностью вытеснены. И превратилось в регулярную практику, по сути — создание двуязычного словаря ощущений и эмоций. Можно каждый день садиться и от руки либо вслух пытаться описать, что происходит внутри тела. Там, конечно, много всего случается, но есть опорные точки:
- Как я сейчас дышу?
- Куда направлен мой взгляд?
- Мое тело скорее сжато или расправлено?
- Наклонено вперед или назад?
В целом, перечисленного достаточно для наблюдений всех основных состояний. Если делать это регулярно, то довольно скоро накапливается база, в которой можно ориентироваться и узнавать свои основные паттерны.
Второй шаг: практика, которая возвращают телу естественный ритм
Да, серьезно, практика одна — следовать за естественным ритмом. А вот выглядеть она может по-разному.
Задайте себе вопросы:
- К примеру, когда вы слышите музыку, реагирует ли на нее ваше тело?
- Можете ли вы уловить, как что-то само рождается внутри? Можете ли вы дать этому происходить? (Мне лично понадобилось много лет чтобы позволить себе танцевать и прыгать на концерте, без алкоголя и без попыток мимикрии, и это было что-то удивительное).
- Есть ли в вашей жизни что-то, где соединяются спонтанность и возможность быть собой без страха?
- Что-то, что рождает внутри азарт?
- Где можно от души хохотать, не бояться быть нелепым? Можете ли вы регулярно дарить себе это?
Попробуйте отпустить постоянный контроль:
Здорово, если это что-то совместное — пение, хлопки, топанье, разные естественные импульсы тела. Человек с УД имеет внутри очень жестокого цензора, который удерживает от спонтанности — поэтому когда его спрашивают «Чего сейчас хочет твое тело?», для него это звучит абсурдно. Но если есть среда, в которую можно погрузиться, другие люди, которые «на волне», то тело начнет потихоньку вливаться в этот ритм, и цензор немного отступит. Игры с мячом здесь тоже хороши, потому что не дают времени на анализ своих реакций — и тогда вы действительно раскрываетесь.
Кроме того, в качестве формальной практики можно раз в день делать тряску. Это именно то, что освобождает нас изнутри и позволяет дотянуться до ощущения жизненности собственного тела.
- Встаньте, сделайте три медленных вдоха и выдоха, чтобы заземлиться в теле.
- Затем начните слегка пружинить стопами, чуть приподнимая пятки от пола.
- Начните встряхивать руками будто на них вода.
- Постепенно тело начнет откликаться изнутри, это может ощущаться будто движение само идет и мы не делаем его специально. Это и есть наша цель.
- В течение следующих трех минут позвольте движению разлиться по всему вашему телу — так мы сбрасываем все лишнее напряжение, которое нам больше не нужно.
- Когда тряска перейдет в покачивание или когда просто пройдут 2-3 минуты, начните плавно замедляться (не останавливайтесь резко!).
- В конце еще раз сделайте три вдоха и выдоха, оглядитесь по сторонам и возвращайтесь к своим обычным делам.
Мы можем думать, что выгорание, ощущение себя некрасивыми, отсутствие или снижение либидо — состояния, требующие специализированной работы. Но в их основе лежит телесная феноменология — внутренняя разобщенность, фрагментированное напряжение. Тряска и все, что я описала, помогают начать собираться воедино и создавать условия для того, чтобы укреплять цельный, непротиворечивый образ себя, из которого и растет внутреннее ощущение благополучия.
Еще один важный момент: не стоит пытаться заставить человека с УД признать, что у него депрессия.
На то и существует эта компенсация, что даже само признание своего внутреннего отчаяния ощущается как невозможное. Что нужно — так это получение нового опыта, который можно назвать «Я могу справляться из своей жизненности, а не из псевдо-позитива». Наше тело и все природные процессы имеют волновую структуру, подъемы и спады.
УД — это стремление всегда быть на подъеме, потому что спад невыносим. И когда человек постепенно знакомится с опорой в своем теле, нащупывает свой естественный ритм — дыхания, движения, дня и ночи, бодрости и спокойствия, напряжения и расслабления, — спады перестают пугать.
Тело получает опыт того, что подъемы и спады сменяют друг друга, и ни на одной из этих стадий мы не теряем себя. По мере того, как мы все больше опираемся на свою жизненность и ее естественные циклы, уменьшается потребность в контроле и в постоянной трансляции позитива. Мы просто становимся живыми и настоящими, и все уже не так страшно, как раньше.
Что касается антидепрессантов, то они могут быть весьма кстати, чтобы человек почувствовал опору под ногами и позволил себе замедлиться
Замедление и заземленность — необходимые для ментального здоровья штуки, но человек в УД может бояться их как огня, потому что уж очень замедление ассоциируется с депрессией. Антидепрессанты могут помочь нащупать разницу между живым покоем и депрессивным коллапсом, то есть физиологически двумя разными состояниями. И бывает, что без антидепрессантов в этот «хороший покой» довольно сложно попасть.
Редакция напоминает, что материал не может использовать для самодиагностики, а медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.


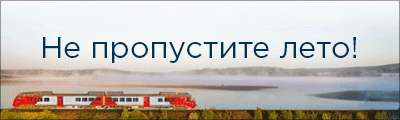




Комментарии (0)